- Остап Сливинский, «Зимний король» (КХ) Фото: КХ Грамматическое значение считываем интуитивно, поэтому...
- Борис Херсонский, «Сталина не было» (Фолио)
- Наталья Бельченко, «Знаки и соблазна» (Дух и Литера)
- Екатерина Калитко, «Бунару» (КХ)
Остап Сливинский, «Зимний король» (КХ) 
Фото: КХ
Грамматическое значение считываем интуитивно, поэтому сложнее обмануть и очаровать грамматикой. Лексические значения легче поддаются эстетических и психологических манипуляций. Остап Сливинский это хорошо знает: он усердно работает именно «в зоне» правдивой грамматики.
Вспоминает то детскую игрушку «варили» с девчонками для птиц кофе с трощенои кирпича, птицам не понравились, поэтому выпил мальчик, которого сейчас едва помнит. Тот допил чашу до конца и заплакал, тогда. Этот плачет сейчас, когда дно его чаши еще и не просматривается, а разбросанные камни в порошок никак не изгладится. Птицы и женщины. Они в «Зимнем короли» всегда рядом. Даже так правильно: птахожинкы - сирены.
Крики сирен заслоняют здесь «пустую язык любви, торгуется с надеждой». И древние магические ритуалы не действуют. По крайней мере не на того, кто говорит нам. Он не способен заливать воском уши, он сам намерен «заглушить сирен» предельным концентратом злости в стихотворении. И вот не факт, что мальчик, который тонет в море своего детства, оттолкнувшись от дна, не поднялся на поверхность Орфеем. Так, сирены замолкают, очарованные художником, искуснее их. Но мы же помним, что убивает их человек, способный не обращать внимание на соблазны. Так и существует «Зимний король»: изысканные злости-стихи между глухим Одиссеем и сверхчувствительным Орфеем.
Здесь много межстрочных переносов. В «Зимнем короли» этот разрыв строки - пауза, в которой может прозвучать реплика собеседника, должна звучать. «И поклялся бы, что слышу, / как бьется сердце сквозь глину. А значит, [а как ты видишь этот мир? - молчание] / зря беспокоил надежду? ». «С которыми уже можно обойтись без объяснений, / которым уже можно только стоять, что [а тебе что он похож? - молчание] / нарубленный волнами камень ». Это пустое место, пауза для слов другого, так и не прозвучат, должен заполнить его мир. Стать той злостью, что заглушит сирен.
Голос - главный мотив этой книги, почти все тексты - это подслушанные реплики и оборванные в процессе диалоги, употребляемых глагол здесь - «говорит». Но после паузы межстрочного переноса строку всегда продолжается. Той ответы, требовал, он так и не получает. И дальше говорить к себе. Ибо «Зимний король» с его тонкими и мучительными побуждениями к разговору - это не говори со мной, а говори мне. Это «теперь говорите»! Злость, которая имеет заглушить соблазнительные песни сирен, возникает в его стихах по той так и не полученный ответ. И голоса исчезают. «Ходит своим голосом на ощупь». Одиссей направляется, Орфей лежит на дне.
А еще он любит вопросительные предложения. Нет, это не риторические вопросы, хотя их редко сопровождают прямые ответы. Так почитается право на ложный ответ. Ошибку того, кто спрашивает, и того, кому придется отвечать. Люди живут в пространстве этой книги, так искренне и безоговорочно ошибаются. Некий поэтический тест Войта-Кампфа. И если через глину слышится сердцебиение, то ведь только сотворили Адама. Или оживили Голема. Или кого-то похоронили заживо. Взгляд на событие зависит исключительно от результатов текста на эмпатию.
Сокровенное же будет п (р) ояснене (как положено) - в пространных, изысканных, бесконечных Нанизывание однородных членов и в длинных вставных предложениях, (как известно) только затрудняют сообщение. Кто-то говорил, что быть правдивым легко для всех?
«Это был кофе для наших дроздов - мыдобавили еще немного травы,
им мало насладиться. (Любовь
в пять лет напоминает неграмотного,
который полагает, что вся штука в том,
чтобы правильно держать перо.) »
Сергей Жадан, «Антенна» (Меридиан Черновиц)
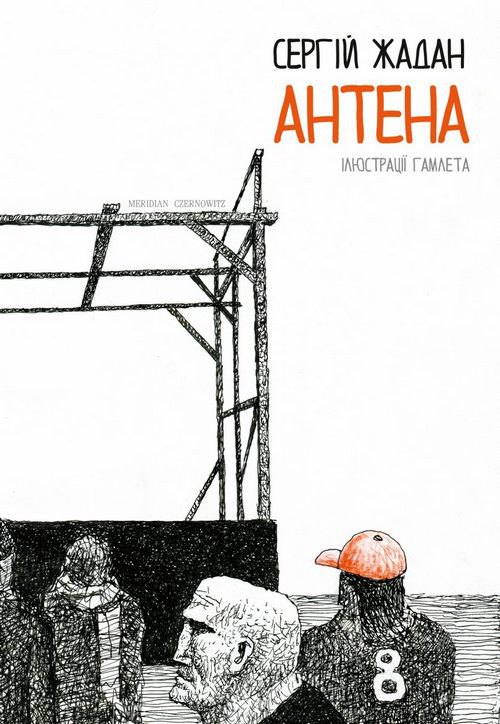
Фото: www.meridiancz.com
Традиционное Жадановский стихотворных биеннале - поэтическая книга что два года - подсадили на его поэзии, хуже других узалежнюючи вещества. При этом теперь в Сергея Жадана есть соавтор, который не уступает «главному поэту Украины» (не я придумала, а похоже на правду) в таланте и харизме. Книга иллюстрирована мощными работами Гамлета.
Есть в литкритици эвфемизм: «Поэт всю жизнь пишет одну и ту же книгу». Это может означать целостность творчества, а может - явную опасность самоповторов. Боюсь, «Антенна» - второй случай. Жадан все еще пишет ту же книгу. Но «Антенна» примечательна тем, что тот, кто с нами здесь говорит, прицельно сменил место, с которого он говорит. Ранее звучал Пророк, теперь слово взял Евангелист (условно говорю, понимаете). «Бог здесь рождается ежегодно», но каждый год же распинают его сына. И эта глупая бесконечность требует свидетеля, предвзятого, но необъятных силой зрения. Что в мире Жадана завораживает, так то, что каждый здесь получает и по силам, и по потребностям (а это не одно и то же, ясно).
Книга о Востоке. Не только наш, тот, где идет война, - но война все т аки является главной темой «Антенны». Но и тот Восток, который мы мыслим как Иначе, причисляя себя к западному миру. И библейский Восток, где есть Вифлеем и Голгофа. Жадан не выдумывает себе «Ориенталь», он сам с готовностью им становится: чем Иное, что подчеркивает тождественны. «Как это происходит здесь, на Востоке? ». И все, как и там: беременеют одинокие женщины, растут здоровые дети, родит скот, приходит зима, плачут на больничных койках воины, любовники оставляют следы на телах, обоим кажутся знаками, лисы поют ... Лисы не поют, знаете. Хищники не могут петь, даже птицы. Это не пение, а крики. И здесь стоит обратить внимание: лисы - образ, который коррелирует с «поэтом»; пение хищников - это и есть поэзия «Антенны», которой можно окрикуваты то восток Голгофы и восток боев сентября 2014-го.
Все здесь фиксируется на момент, когда «Иисус начинает сомневаться», чтобы впоследствии «снять посмертную маску». Бдительны наблюдатели чужих страданий становятся братьями в кресте - те, кто на кресте сам не побывал. И здесь почти внезапно происходит переход хода: «Это вот - мои братья и сестры, и я им сторож». «Есть сторож я братьям моим?», - эта реплика уже НЕ евангелиста, это заговорил Каин, знаки любовников на теле которого становятся печатью братоубийцы. И вот теперь, именно теперь «Антенна» может чисто и надсадно говорить о любви: «Они должны были называть тебя сестрой». Сторож или я сестре своей?
Программное стихотворение - «Госпитальерка», последняя цитата - из него. То диалог, обращенный к девушке, которая не отвечает, потому что выносит с поля боя раненых. Кто говорит ей, так и не названной вслух сестрой, потому что мертвые не помнят родства, и пиетет памяти - это работа живых? «Смерть говорит». Те, кто имеют дело со смертью, редко бывают откровенными. Оставим разговоры о политике так. Он (ибо смерть мужского рода) рассуждает, чем политика. И отвечает: всем. Политика здесь - это буквальная публичность. И смерть-на-публике, в частности. И та откровенность, которой она нуждается. Открытость распятого и правда евангелиста. Но те, кто со смертью «дело, редко бывают откровенны». А за правду, - говорит, - надо оправдываться.
В конце концов, антенна из названия - это как раз Крест. Мощный передатчик: извинения-за-правду должны услышать.
«Сын богородицы, четыре буквы, первая и.
Роса с ночи лежит на осенней траве.
Пахнет хлебом в утренних магазинах.
Все живы, - повторяешь ты, -
еще все живые »
Борис Херсонский, «Сталина не было» (Фолио)
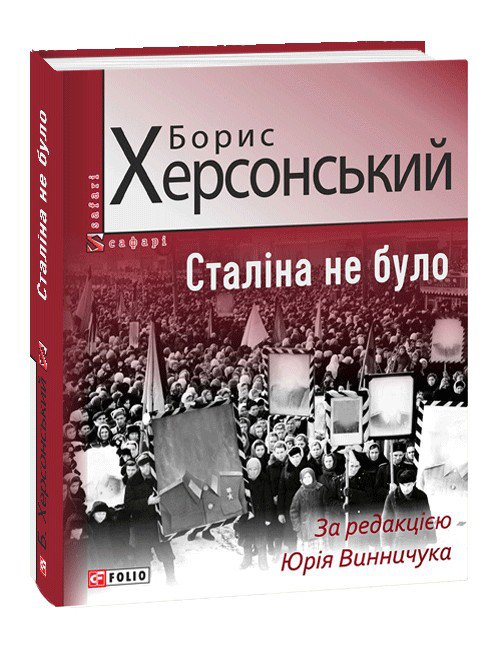
Фото: Фолио
Эко объявил: «Средние века начались», а Лец пошутил: «Каждый век заслуживает свое Средневековья». Эти реплики определяют мир, в котором существует сборник Бориса Херсонского. Каждый заслуживает свое темностолиття, и наше началось. Автор «Сталина не было» берется писать хроники этих процессов. Его книга лирическая по форме и эпическая за содержанием. Так заново вымышленное Средневековья прокладывается и прочный мост к поэзии шестидесятников, которые тем самым по сути занимались, и творится (на слух) непрерывного поэтическая традиция. И сборник становится чем-то уже вроде антологии. И так, эта книга Херсонского написана на украинском (большая доля ее - автопереводе).
Пирог с запеченной в нем монеткой. Первый сильный образ в книге - претендует быть указателем: «Такие у нас пироги / У них не монеты на счастье, а пули войны». Василопита и многочисленные ее пасхально рождественские разновидности, где запеченная монетка не только приносит счастье, но и делает кого-то королем на минуту. Тем не-самозванцем, которым потом пожертвуют, когда праздник закончится. Сложная история о самоубийстве бога, вдруг стал военной жертвой (допустимые потери среди гражданских?). Она не раз в книге отзовется тем, кто с улыбкой на устах и с короной на голове «прижимает палец к губам разговаривать не следует». Счастливую монетку с василопиты может получить и тот, кто на разрезании пирога не присутствует. Вещать правду может и тот, кому говорить не следует. Лучше алиби в поэтическом мире Херсонского, знаете, в заранее предназначенных судьбой самоубийц. Просто они совпадают с их ритмами смерти-возрождения со сложно темперированным здесь время.
А время - как раз главная тема «Сталина». И не просто время, а тот самый специфический время вечно длительного средневековья. Каждый текст в этой книге написан по обратной перспективой. Мамай курит трубку, когда рождается Христос, невинно убиенные малыши по приказу Ирода формируют мальчиковые хоры Германии, ископаемые остатки пьют кока-колу, деды трофейными ложками со свастикой едят римских жертвенных быков, и Тарасу думы не летят в Украину, а ложатся печальными строками на советские нары, и мальчик в красном галстуке на страже №1 видит воинов прошлого ... Сколько том мальчику? Пятьдесят лет? Немного меньше? Немного больше? Впрочем, которое здесь может быть сейчас? - Только немного меньше сейчас и немного больше сейчас.
Поэтические циклы «Сталина» и каждый отдельный у них стихотворение - коллажи, где важна не «материалы», а специфика их сочленения. Где видно невооруженным глазом «швы».
Там есть прозрачная указание на Псалтырь и и классическая форма псалма проступает кое-где, но на самом деле это все есть екзегезой, а не Псалтири. Такая патристика в стихах, так или иначе обдумывают идею Града Божьего (Одесса с другом с - тоже из тех «сверх-зданий»). И идея эта созвучна размышлениям о природе империй от Ассирии в Византию, от Рима в Москву. Херсонского влечет, как столетия «поет тиранам песнь дерзкую». Только «Сталин» - это не о природе тоталитаризма, а о природе тотальности. Ее мир, в котором все существует одновременно, но на разных уровнях, где главное заступает до курьеза увеличена мелочь - это мир, где Рождество для Сына Божия будет совсем другим днем, чем для мальчика, убитого Ирода посланцами. Но останется все равно Рождеством, праздником. Потому, наконец, с кем такого не бывало? «И ничего не с кем уже больше не было».
«Эволюция - та же юродивая, ходит по вечному кругу,бабушка мальчика через дорогу ведет за руку в школу.
Окаменелые эпохи пьют запрещенную кока-колу »
Наталья Бельченко, «Знаки и соблазна» (Дух и Литера)
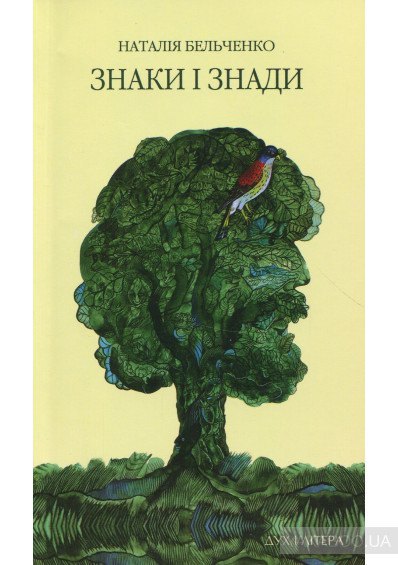
Фото: Yakaboo
Камерная лирическая поэзия от автора, сознательной своей сноровки в версификации. «Знаки и соблазна»: силлабо-тоника, техническая и мастерская, классические формы, включая сонетом. «Знаки и соблазна»: название позаимствована из стихотворения Ярослава Ивашкевича. Знаки и соблазна в Ивашкевича - это о присвоении, которым злоупотребляет влюблен. Знаки и соблазна у Натальи Бельченко - это о щедрости разделенного акта любви.
Небольшая эта плотная книжечка, первая из наследия поэтессы полностью написана на украинском - частная топография на первый взгляд. Татарка, которой когда-то гуляла с братом - сейчас нет ни той Татарки, ни брата. София, Труханов остров, дом Сикорского. И тут вдруг - варшавское гетто, Муранивский, куда забрела и замерла, прислушиваясь к несуществующим уже трамваев. Так, «что-то лопнуло в твердые и тишины». И эта тишина пронзительная, как молчание умерших в Голодомор уже его предков с Переяславщины. Просто на улице апрель, просто такая выпала весна, которая призывает своих и чужих мертвых.
Почему именно эта весна? И просто все: ей сорок. Ей - сорок лет, ее мертвым - сорок дней, когда душа уходит в теплые края, успокоенная. И взаимодействие между ними - как «перевод с потерянных языков», и осталось им всем здесь разве что «прелюбодеяние и недолюбов».
Отдельный цикл «Знаков и соблазнов» посвящен рекам, «Хождение на воду». Река в поэзии - образ настолько многозначен (от границы до очистки), что по факту уже ничего и не значит. Идеально для лирики: всем понятно и для каждого что-то уникальное. Бельченко читает реку прежде всего очень точно, физико-географически: это природные потоки, движущиеся при помощи силы тяжести. Именно это поэтессе весит: обдумать естественность, движение и силу.
Российское «устье» снова и снова превращается в «губы», и этот двуязычный поцелуй в конце концов «отсечет пуповину». Те реки несут воспоминания, они всегда - ответвленные потоки Лети, только им доверять поэтому не стоит. Они несут забвения: «Память настолько капризна и счастлива, / Что доверять нет оснований». И забвение здесь касается именно следов другого языка, которая вот-вот проступит, но уже обновленная и непознаваема. Аскет Святой Антоний на берегу тех рек Бельченко возникнет не случайно: так прозвучит сообщение о готовности все отдать, чтобы приобрести еще больше. И те «губы» сложатся наконец в примирение прощального поцелуя.
И это не просто реки, в конце концов, а именно реки Киевщины: Сырец, Лыбидь, Вита, Днепр, Стрыпа и т.д. В этой географии тоже прописана память: с теми реками связаны семейные истории, их легко вычитать. В ее мире места памяти - не только места трагедий и катастроф. Чаще всего - это места счастливых воспоминаний, которые (и это известно) удержать-зафиксировать значительно сложнее плохие. Детская игрушка в замри-отомри становится заклинанием против самой смерти: «На все замри - счастливое отомри», забудь-вспомни.
Только вот я соврала: цикл тот не о реках даже, а об островах; часть его так и называется «Киевские острова». Тоже очень буквальное прочтение: клочок суши посреди воды. И здесь - в тесноте природных ограничений - выживают птицы и звери, люди и русалки, нимфы и рыбы. Здесь становится настолько ясным, что мертвых больше живых, и мы им должны на этой суши среды-воды-забвения благодарить за угощение.
Несколько стихотворений в книге - это акростихи, здесь зашифрованы имена. «Знаки и соблазна» ладят места светлых воспоминаний, и сами зовут туда живых. Vivos voco, только шепотом.
«И там, где лето августом вверх,
Где уст не хватает, только глаза, -
Следя последний шаг урочий,
Крылатый бог отмеряет дары »
Екатерина Калитко, «Бунару» (КХ)
«В горле», это все еще место, с которого говорит поэзия Екатерины Калитко, оно узнается легко - солоно, горько, остро, в горле листья шумят и пекут колыбельные, и ветер метет лепестки; это - поэзии Калитко как они есть. Там горло - ржавая тюрьма голоса, который, будучи уволенным, оставляет после себя распятую плоть, а без голоса же слишком страшно, «слишком голо». То зболиле горло так наглядно рифмуется с названием ее нового сборника, «Бунару». Бунару - колодец. И в этой книге рядом с горлом почти всегда будет снята лоскутами и прядями кожа. Это память. Так же наглядно и сильно, так же травматично и болезненно (тонкая работа художницы Илоны Сильваши поможет подчеркнуть эти темы). И это тоже о Бунару: слой за слоем снимают почвы, чтобы добраться до спрятанной в земле воды. Чтобы наконец перестало саднить от жажды и усталости горло, чтобы приросла назад кожа. Чтобы свободно было «говорить на таком языке, которая бывает между войнами».
Десять поэтических циклов новой книги Калитко - это как раз один за другим отслоившегося: любовь-страсть; боль, тебе привели; боль, ты вызвал; те, кого нуждаешься; те, кто нуждался тебя; те, кто от тебя ушли; потеряна вера; пережитые вдруг ощущения, которые почему-то стали опытами; принадлежность; и снова любовь, но уже любовь-милосердие. Этих вещей-людей-чувств нуждаешься, но должен осознать: именно они скрывают от тебя ту живую (?) Подземную воду. Эти десять историй обрамляют две стихотворные подборки, они названы «Слова, которые мы изучили первыми» и «Слова, которые мы в последние забываем». Десять последовательных историй о потерях и отказа вписаны в антиномии «первый - последний», «изучить - забыть» ... Стоп. Антонимом к «изучать» не является «забывать». Не узнать, не узнать, не знать. Где делось крайне необходимо под стать «забыть» «помнить»? Нет слова, подсказка является «Острым вспышкой из мрака будь мне безимен». Снятая прядями кожа, содрана по живому имя. Теперь вот какой мне!
Похоже екзодус, говорит. Это и была Великая Побег. Горячий сентябрь, таяли стены домов, только сквозняки в соборах спасали от жары. И люди: соседки и пограничники, как олени и соколы - совместный сон и общее молчание становились опасными. Почему бегство превращается здесь в охоту? Соколы и олени - это же о охоте. После спасение для кого-то возможно, когда кто-то другой предназначен в жертву, и не факт, а не добровольно. А завершает этот стих строку: «И ты говоришь в ухо сзади: только тебя и ждал». Жертвенная любовь, это она. Только в мире Калитко весят не имена, а свойства, а значит, прежде всего жертвенная, а значит уже потом - любовь. А значит, всегда «кто далек созывает оленей в манок». Такое вот быть.
Это не какое-то абстрактное быть, кстати, а воплощенное, время же и вещественное существовать. Лишенная имени человек становится телом, способным жить своими ощущениями. Если ампутирована конечность - это война, если терракот, лунный свет и золото - это цвет кожи, если лодки, кисти и кисти - это морщины (вокруг глаз, ведь), молоко и ртуть - это прикосновение, непродолжительный, изменчивый и, плавающих . Если Бунару - это метафорическое горло, то вот-вот чья-то вполне материальная рука ласкать шею и поцелует ключицу. Поэзия Калитко плоти, здесь поэтический образ - штука очень конкретная, как боль в горле.
Эти тексты написаны, пока продолжается война. «Бунару» о смирении, похоже. Вот такая сумма адских условиях - и попробуй в этих условиях быть, пожалуйста.
«Страсть сыплется в пригоршни тонким и нежным помолом -
не зря же мы в очереди к Божьим мельниц стояли.
И если бы ты меня спросил - а зачем? - я бы
не нашла причин, только любовь и голод »
Кто-то говорил, что быть правдивым легко для всех?«Как это происходит здесь, на Востоке?
«Есть сторож я братьям моим?
Сторож или я сестре своей?
Кто говорит ей, так и не названной вслух сестрой, потому что мертвые не помнят родства, и пиетет памяти - это работа живых?
Допустимые потери среди гражданских?
Сколько том мальчику?
Пятьдесят лет?
Немного меньше?
Немного больше?

